Речь Посполитая так и не выполнила обещаний, которыми манили казаков, пока шла война с русскими. Когда она завершилась, Баторий и впрямь увеличил реестр, но только до 800 человек. Однако даже статус реестровых остался неопределенным. Им давали землю – но без закрепления в законе (юридическое право владеть землей в Речи Посполитой имела только шляхта). Ну а низовцов, воевавших под знаменами короля, в реестр так и не включили. Заплатили жалованье – и идите по домам, превращайтесь в «хлопов». Казаки чувствовали себя обманутыми. Потянулись к вольному гетману Шаху. Королю снова посыпались жалобы из Крыма и Турции.
Но поляки сумели схватить Шаха, он сгинул в темнице. А казаков Баторий придумал отправить подальше – пускай хоть все погибнут. Его ставленник гетман Зборовский заключил союз… с крымским ханом, чтобы казаки вместе с татарами ходили в Закавказье – турецкий султан вел там войну с Персией. Но когда гетман изложил эти планы низовцам, они забушевали. Только сейчас у них стали открываться глаза, и заговорили, что Зборовский – королевский шпион. Кое-как успокоили. Однако у Батория возникла новая идея, куда услать казаков. В Молдавии опять вспыхнула междоусобица, господарь Янку Сасул сбежал, прихватив казну. Его перехватили казаки и передали польским властям. Турки потребовали его выдачи. О, Баторий нашел куда более выигрышное решение. Янку обратили в католицизм (чтобы иезуитам поставить «галочку» в отчетности), а потом отрубили голову. Король отписал султану, что это акт дружбы, а молдавскую казну оставил себе.
Мало того, он задумался, почему бы ему не прихватить Молдавию? Только чужими руками, чтобы не ссориться с турками? Почему бы Зборовскому не стать господарем, как это сделал Подкова? Тот воодушевился, позвал своих союзников крымцев – им было без разницы кого грабить. А казаки на этот раз поднялись дружно. Сочли, что Речь Посполитая начинает борьбу за освобождение христиан от турок. Атаковали и взяли Бендеры, знамена и пушки привезли к королю, объявили, что передают город ему. Но это получилось слишком откровенно, разгневанный султан пригрозил войной. Баторий предпочел выкрутиться. Всю делегацию, приехавшую с трофеями, 31 казака, казнили перед лицом турецкого посла. А Зборовский никакой помощи от короля не получил. Татары награбили добычи и пленных и ушли. Тем самым разъярили молдаван, и казаки очутились в окружении враждебного народа и войск. Голодали, еле выбрались обратно. Зборовский после этого обозлился. Ездил по Украине, объявлял, что Баторий с приближенными подставили его, угрожал восстанием. Но его арестовали, и король подписал смертный приговор своему подручному – при этом похоронив и собственную роль в молдавской авантюре.
Украину Баторий решил взять под контроль. В основные центры казачества, Черкассы, Канев, Белую Церковь, Брацлав, Винницу, Бар, назначил специальных чиновников, “польных стражников”. Им предписывалось пресекать действия казаков, разоружать всех, кто не вписан в реестр. Аналогичные распоряжения получили воеводы и старосты в здешних городах. Вот тогда-то казаки потянулись на Сечь. Раньше она была только передовой базой. Отряды казаков из разных городов собирались здесь для совместных предприятий. Возвращаясь после походов, оставляли в Сечи трофейные пушки, боеприпасы, отделяли часть денег и ценных вещей в войсковую «скарбницу» (казну). Прятали ее в особых тайниках и расходились. В Сечи оставались лишь бездомные и бесприютные.
Теперь базироваться в городах стало опасно. Казаки стали перебираться в Запорожье, за пределами польской территории. Сечь в данное время располагалась на острове Томаковка возле нынешнего города Марганец. Собственно «сечь» означала лишь укрепление. А казачье войско именовало себя «Запорожским Кошем» (у татар кошами назывались кочевья, родовые хозяйства, кочевавшие по степям). В Сечи выбирали общего начальника, кошевого атамана, при нем действовала администрация из нескольких старшин: судья, писарь, есаул. Кошевой заведовал всем хозяйством, общей казной, решал споры. Иногда он сам возглавлял казаков в тех или иных операциях. Иногда для этого выбирали походных атаманов. Или гетмана – тут уж подразумевался масштабный поход с привлечением всех запорожских сил, других добровольцев.
В Сечи были построены казармы – курени. Каждый из них являлся самостоятельной общиной, им руководил куренной атаман, у него была своя казна, свои старшины. Впоследствии количество куреней поддерживалось традиционное – 38. А о том, как образовался Запорожский Кош, свидетельствуют названия куреней – по названиям городов или иных мест. Каневский, Полтавский, Уманьский, Корсуньский, Переяславский, Донской и др. На Дону казачьи отряды селились отдельными городками. А в Сечи отряды из разных мест объединились.
Запорожцы принимали в свою среду всех желающих – выходцев из России, молдаван, литовцев, поляков, татар, турок. Но иноверцы обязаны были для этого перейти в православие. Новичок приходил к кошевому, и тот задавал всего два вопроса. Верует ли он в Господа Иисуса Христа, в Святую Троицу? Готов ли биться за веру и христианский народ? Если человек подтверждал, кошевой требовал: «А ну перекрестись!» После чего говорил: «Ну ладно, иди до куреня, какой сам знаешь». Те, кто пришел из Канева, Полтавы, Переяславля и др., отправлялись к землякам – в Каневский, Полтавский, Переяславский курени. Остальные пристраивались случайным образом [42].
Но вот в курень-то попасть было не просто. Новичка проверяли, испытывали разными заданиями. Если не понравился – выгоняли. А если приживался, ему давали казачье прозвище, делились опытом и хитростями. Никаких благ и привилегий положение запорожца не сулило, зато лишений и опасностей – хоть отбавляй. Из походов нередко возвращалась половина участников, а то и меньше. Если человек понимал, что такая жизнь не для него, никто не его держал – иди своей дорогой. Другие погибали, и их места занимали новые. И вот так «естественным отбором», выковывались настоящие казаки, воины высочайшего класса.
В Сечи со времен Вишневецкого поддерживалось строгое безбрачие. Были и женатые казаки. Но их семьи жили отдельно, на хуторах. Мужья возвращались к ним на зиму, а весной приходили в войско. Сечевики к таким относились свысока, называли “сиднями”, “гнездюшниками”, «зимовчаками». А в Сечи проживало постоянное ядро, около 3 тыс, они гордились именем “сирома” (“сиромаха” – волк). Поэтому говорить о какой-то генетической преемственности запорожцев не приходится. Они пополнялись самым разношерстным народом, а преемственность поддерживалась сугубо на уровне традиций.
Ежегодно 1 января в Сечи проводилась рада, на нее съезжались и женатые. Выбирали кошевого атамана и старшин. Вырабатывали планы для совместных предприятия. По жребию распределяли между куренями участки для рыбных, звериных ловов. Охота была хорошим подспорьем, а рыбалка - основным промыслом. Рыбы в Днепре было множество. Ели ее сами, приезжали обозы торговцев-чумаков, развозили на ярмарки. Взамен чумаки привозили товары, нужные запорожцам. Потянулись сюда и евреи, открывали в Сечи лавки – скупать у казаков добычу и пленных было очень выгодно. Точно так же, как продавать им вино, горилку (водку). После удачного набега запорожцы денег не считали. Да и казачьи предводители приспособились крепко угощать казаков, чтобы приобрести их расположение, отблагодарить после рады за избрание. В таких случаях в Сечи царил массовый разгул, бывало немало пострадавших и умерших. Но выпить немеренное количество спиртного считалось доблестью. Когда запорожцы хоронили своих товарищей, даже в гроб клали им штоф водки (впоследствии по этому признаку археологи определяли могилы) [173].
Королю они теперь не подчинялись. В 1585 г. хан Ислам-Гирей опять прислал жалобу на нападение, грозил набегом. Баторий послал в Сечь шлхтича Глембовского, ругал казаков, угрожал и требовал вернуть татарам награбленное. Но запорожцы возмутились таким обращением и утопили посланца. Хотя сразу после этого спасли страну. Ислам-Гирей с конницей выступил на Украину, переправлялся через Днепр. Налетели стаи казачьих лодок, перебили 3 тыс. крымцев, захватили их лодки, на которых перевозили на другой берег седла и припасы, и набег был сорван. Королю трудно было сладить с Сечью еще и по той причине, что казаки по-прежнему пользовались покровительством приграничных магнатов. Князья Острожские, Вишневецкие, Конецпольские смотрели сквозь пальцы на то, что казаки проживают в их владениях, что их крестьяне иногда ходят «казаковать». За это привлекали казаков для обороны своих владений. Была и другая выгода. Куда, спрашивается казакам было девать огромные стада угнанного скота? Магнаты скупали их подешевке. Взамен поставляли порох, оружие.
А в 1586 г. Баторий умер. Ватикан и иезуиты затеяли новую операцию. Объединить не только Польшу и Литву, но еще и Швецию. Распространить на нее католицизм и создать сверхдержаву, способную сокрушить Россию. На престол Речи Посполитой они провели шведского принца Сигизмунда III, ярого католика. Ближайшим его советником стал папский нунций, страну наводнили иезуиты. Добиться избрания Сигизмунда было трудно, нашлись соперники, в государстве пошел разброд. Крымский хан Газы-Гирей не преминул поживиться, лавина татар докатилась до Львова, разошлась загонами, опустошая страну.
Достойно проявили себя только запорожцы. Они перехватили крымцев на Днестре, когда те возвращались назад. Разгромили один из загонов, но подоспел хан с главными силами. Казаков окружили. Они устроили укрепленный табор, огородившись возами. Как писали потом запорожцы, “враг на нас потопом пошел, чего мы перед тем в битвах никогда не видели”. Несколько атак они отразили, а затем неожиданно выскочили из табора и рванули прямо на ханскую ставку. Могучим натиском проломили охрану, сам Газы-Гирей был ранен, погибли его брат, несколько мурз. Татары обратились в бегство. В битве они потеряли 9 тыс. воинов, был освобожден огромный полон.
Но после такой победы вместо наград… развернулись гонения. Потому что Сигизмунд начал выполнять желания панов и шляхты, обеспечивших ему корону. В 1588 г. Сейм принял постановление, что все крестьяне, прожившие 10 лет на земле хозяина, становились крепостными. В 1589 г. последовало другое постановление Сейма. Жителям Украины запрещалось отлучаться “на низ”. Таких беглецов предписывалось казнить. Смертная кара предусматривалась и для тех, кто будет возврашаться из “диких полей” с добычей или принимать их добычу. Продавать оружие и боеприпасы простолюдинам строго запрещалось. Следующее постановление, в 1590 г., касалось реестровых. Указывалось, что гетман и старшины должны избираться только из польской шляхты и утверждаться королем. Предписывалось проверить реестр, исключить «лишних» и обратить в крестьян.
А Сигизмунд издал универсал: “Государственные сословия обратили наше внимание на то обстоятельство, что ни государство, ни частные лица не извлекают никаких доходов из обширных, лежащих впусте наших владений на украинском пограничье за Белой Церковью. Дабы тамошние земли не оставались пустыми и приносили какую-нибудь пользу, мы… будем раздавать эти пустыни по нашему усмотрению в вечное владение лицам шляхетского происхождения за заслуги перед нами и Речью Посполитой”. Но эти земли давно уже не были пустыми! Их освоили казаки, отстояли своими саблями, их заселили сами же казаки и крестьяне. Теперь сюда поехали поляки с королевскими грамотами, им доставались распаханные колосящиеся поля, села и хутора с выращенными садами. А жители вдруг узнавали, что отныне они принадлежат тому или иному пану. Тем, кто причислял себя к казакам, объявляли, чтобы больше не смели так называться, иначе могут испробовать панскую плеть или петлю на шее.
Но досталось и реестровым – ведь их права не были закреплены. При переделе собственности у них запросто отбирали землю, приглянувшуюся более сильным персонам. Взбунтовался Криштоф Косинский, мелкий шляхтич, реестровый казачий полковник. Даже у него отобрал имение староста Белой Церкви Януш Острожский, получивший на эти земли «привилей» от короля. Косинский поднял своих казаков. Мятеж начался из-за личной обиды, но стал детонатором общего взрыва. Поддержали запорожцы, избрали Косинского гетманом. Восстали крестьяне, изгоняли и убивали поляков. Были захвачены Киев, Переяславль и ряд других городов. Король и магнаты собрали силы, несколько раз громили казаков, но восстание разливалось все шире.
Косинский размышлял, что делать дальше. Дважды обращался в Москву. Просил принять его на службу вместе со всеми казаками. Письмо ему прислал Годунов. Соглашался взять их на службу против крымцев. Но и войны с Речью Посполитой Россия не желала. Все взвесив, Царь Федор Иоаннович 20 марта 1593 г. написал «черкаским запорожским гетману Хриштопу Косинскому и всем атаманам и черкасам», предлагая перейти в свои владения и поселиться на Северском Донце. Но послание уже не застало гетмана в живых. Он осадил Черкассы и погиб. Одна версия – в бою. Другая – что его пригласили на переговоры и убили.
Востание продолжалось и без него. Однако поляки нашли средство «замирить» Украину. Тайно позвали крымского хана. Татары захватили и сожгли Сечь - защитников там было мало, казаки воевали под Киевом. Орда прокатилась до Карпат, страшно опустошив всю Украину. Но при этом погасло и восстание, кто погиб в боях со шляхтой, кого порубили и увели татары. Вместо погибшей Сечи на Томаковке казаки построили ее на острове Базавлук, при впадении в Днепр реки Чертомлык. А паны сочли ненадежным и реестровое войско, расформировали его.
В это время германский император Рудольф в союзе с Испанией и Венецией затевал войну против Турции. Он обратился к Сигизмунду III, просил прислать 8-9 тыс. казаков. По Европе о них уже пошла слава, как о великолепных бойцах. Польский король очень охотно согласился. Австрийский посол Эрих Лясота приехал в Сечь (и оставил первое ее описание). Но когда он предъявил королевский указ, кошевой Богдан Микошинский развел руками. Объяснил, что запорожцы служат не Сигизмунду, а русскому Царю. Если будет приказ из Москвы – пожалуйста. Лясоте пришлось ехать в Россию, вести переговоры. Царь Федор Иоаннович не возражал против участия запородцев в войне. С одной стороны, помочь христианским народам. С другой, отвлечь крымских татар, досаждавших России. Лясота вернулся в Сечь с московским послом, и казаки выступили. Разорили Аккерман, Килию, Бендеры, сражались в Молдавии и Валахии.
Но Сигизмунд, подавив восстание Косинского, возобновил раздачу украинских земель полякам. Они наглели, насильничали. Даже духовник короля, иезуит Скарга, возмущался: “Нет государства, где бы подданные и земледельцы были так угнетены, как у нас, под беспредельной властью шляхты. Разгневанный владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что у него есть, но и самого убьет, когда захочет и как захочет, и за то ни от кого дурного слова не потерпит”. Но король с тем же Скаргой и другими иезуитами уже готовил Украине новый сюрприз. Церковную унию. Некоторых православных архиереев подкупали. На других выискивали компромат и вынуждали сотрудничать. А по польским законам король и сам имел право назначать епископов – своих ставленников. В 1594 г. пять таких епископов и Киевский митрополит Рогоза составили «соборную» грамоту и повезли ее в Рим – якобы православная Церковь в Речи Посполитой согласна подчиняться папе.
Священников и монахов, не желающих подчиниться, стали изгонять. Захватывали храмы и монастыри, церковные земли. Особенно разошлись униаты в Луцке и на Волыни. Там и королевский староста Семашко был воинствующим католиком. Он ввел особый налог на посещение церквей православными. Врывался с солдатами в православные храмы, устраивал в них танцы, приказывал стрелять в иконы. Но из молдавского похода возвращался Северин Наливайко. Он был из семьи ремесленника. Польский пан, владелец городка Гусятина, ни за что убил его отца. Северин пошел служить в личные отряды князя Острожского, прекрасно проявил себя, получил чин сотника. Он участвовал в подавлении восстания Косинского, потом отправился с казаками в Молдавию.
Узнав, что творится на Украине, Наливайко призвал казаков к восстанию. К нему присоединились запорожцы под командованием Лободы. Захватив город Бар, созвали раду и разослали воззвания – подниматься за волю и веру. Восстание охватило Поднепровье, Волынь, Белоруссию. Наливайко обращался к королю, предлагал мир. Выдвигал требования – отдать казакам земли между Бугом и Днестром, чтобы они жили сами по себе, но они станут вассалами Речи Посполитой, будут помогать ей против внешних врагов. В общем, так же, как Дон служил России. Но правительство отвергло переговоры. В 1596 г. Сейм созвал посполитое рушенье, общее ополчение шляхты. Повстанцев уничтожали свирепо. Войско Наливайко и Лободы было разбито, в урочище Солонцы под Лубнами его окружили. Две недели оно отбивалось в осаде. Кончилась еда, стали голодать.
А коронный гетман Жолкевский умело спровоцировал раздоры. Войско Наливайко состояло из крестьян и черни, а казаками командовал Лобода. Жолкевский предложил переговоры только ему. Наливайко оскорбился, повстанцы забушевали. Лободу обвинили в измене и убили. Но осада продолжалась и стало совсем худо. Бурлящая разношерстная масса вышла из повиновения, сама вступила в переговоры. В надежде спасти жизни связала и привела к полякам Наливайко и еще 6 командиров. Но Жолкевский, приняв их, подал условный сигнал, солдаты бросились рубить повстанцев, оставшихся без руководства, вломились в табор. Перебили всех, кто им попался, более 8 тысяч вместе с женами, детьми. Только отряд из 1500 запорожцев сохранил порядок, дружным ударом они прорвали в кольцо и ушли на Сечь. Наливайко и других предводителей после долгих истязаний четвертовали.
А королю разгром Украины позволил завершить операцию с унией. Сигизмунд сделал вид, что хочет разобраться в ситуации, в 1596 г. созвал в Бресте церковный собор. Сразу же он разделился на две части. Одна, во главе с Киевским митрополитом Рагозой, постановила принять унию и прокляла ее противников. Другая постановила лишить сана Рагозу и просила короля не чинить насилия в делах веры. Но арбитром выступал Сигизмунд! Какой из двух вариантов он утвердил, догадаться не трудно. Униаты, опиралясь на постановления «собора», обрушились на православных.
Забурлили новые мятежи - Добровнице, Остре, Брацлаве, Корсуни. Казаков попытался поднять Федор Половус. Но после двух восстаний и кровавых усмирений страна выдохлась. Бунты не получали широкой поддержки, и их подавляли. В самой Сечи казаки разделились на три партии. Одна считала, что надо продолжать борьбу. Другую возглавил Тихон Байбуза, убеждал запорожцев, что с королем и панами можно договориться. Третья, Гната Василевича, полагала, что не надо задирать ни поляков, ни турок с татарами – отсидеться, и как-нибудь все сгладиться. Но Сигизмунд рвался покончить с казачеством. Сейм принял постановление “О своеволии Украины”. Предписывались “беспощадные кары” за любые “эксцессы”. Шляхте Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств приказывалось арестовывать всех подозрительных, разгонять любые группы, хотя бы и по 5-6 человек, прекратить всякие сношения Украины и Запорожья. На Сечь намечали послать войска. Но до этого у правительства руки не дошли. А потом казаки снова оказались нужны…
Для коронного гетмана Яна Замойского и могущественных магнатов король был не указ. Они продолжили войну за Молдавию, надеясь прибрать ее для себя. Привлекли и опальных казаков. Это вызывало набеги татар, и Замойский стал использовать казачью тактику контрударов. В 1600 г. состоялся совместный поход на Крым польского корпуса и запорожцев Самойло Кошки. Ну а для Сигизмунда его шашни с иезуитами вылезли боком. Забеспокоились протестанты-шведы, как бы и к ним не полезли католики. Риксдаг (парламент) постановил низложить Сигизмунда и лишить права на престол. Власть захватил его дядя Карл.
Король возмутился, начал войну против него. Схлестнулись в боях за Прибалтику. В 1601 г. туда отправился и Замойский с коронной армией, взял с собой 4 тыс. казаков. Здесь им пришлось очень туго. Шведы были отличными солдатами, а замки у них – крепкими. Запорожцев опять бросали в атаки первыми. При взятии Феллина (Вильянди) погиб герой рейдов на турок и татар гетман Кошка. Вдобавок в королевской казне всегда не хватало денег, казакам перестали платить жалованье. В 1603 г. они взбунтовались, пошли домой. По дороге решили компенсировать то, что им не выдали. Круто разграбили две волости под Могилевом… Спрашивается, за что воевали, за что лили кровь?
Из книги В.Е. ШАМБАРОВА "КАЗАЧЕСТВО. Путь воинов Христовых".


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"




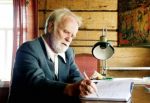


















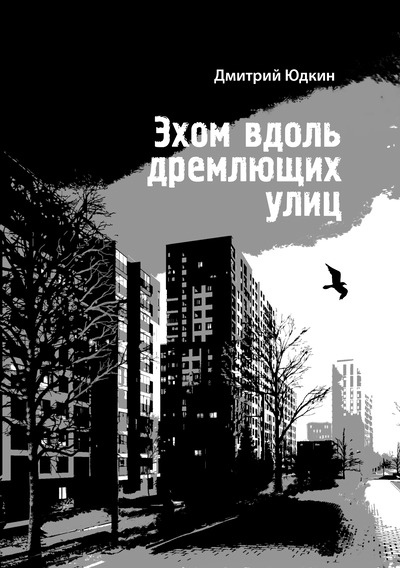

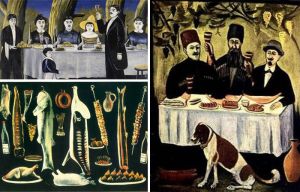





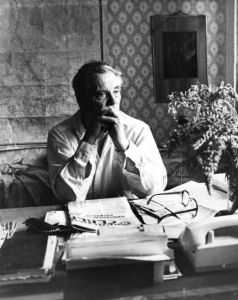
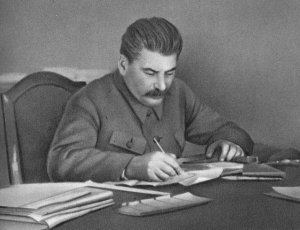

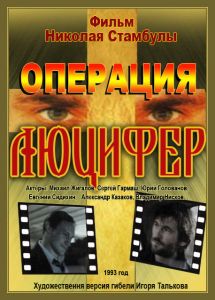

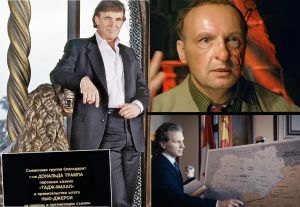




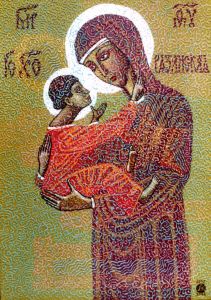
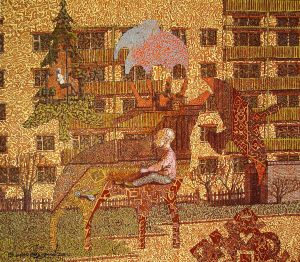






 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский